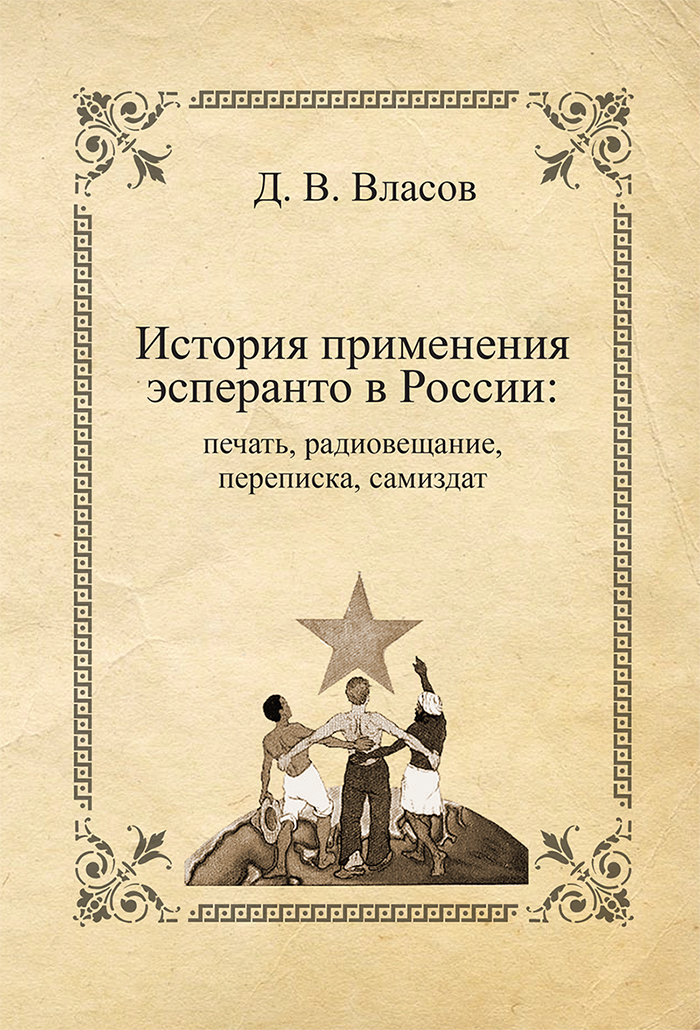Отрывок из книги Владимира Варанкина “Метрополитен”
Отрывок из книги
Владимира Варанкина “Метрополитен”
(Серия “Волна эсперанто”.
Перевод с эсперанто А. Александрова)
Помещение, в котором мне предстоит выступить — знаменитая пивная. Хозяин, разговорчивый старик, гордится тем, что у него когда-то гостил сам Ленин. Эта пивная всегда была известна своими революционными посетителями и по наследству перешла от прежних, способных на борьбу социал-демократов не к предателям социал-фашистам, а к спартаковцам, коммунистам, бойцам Ротфронта. В зале все точно такое же, как и во всех прочих пивных. Стоит старое расстроенное пианино, оркестр «джаз-банд» из четырех человек оглушает посетителей дикой какофонией, худой певец с впавшими зелеными щеками каждый вечер силится заглушить грохот медных тарелок и барабанов экзотическими мотивами. За столиками сидят обычно по пять-шесть человек, вполне достойные персоны, верные трехцветному флагу. Они со спокойствием терпят музыку и выпивают по несколько пенящихся кружек пива. Иногда заходит целая рабочая семья, и тогда отец заказывает для детей черное мюнхенское, сладкое пиво. Хозяин приветливо смотрит из-за стойки и охотно принимает участие в беседе с посетителями. Можно отметить их жизнелюбие, беззаботность, неприязнь к предпринимателям, но в их действиях нет ничего противозаконного. Бойцы красного фронта собираются на втором этаже. Стоит туда подняться, и все сразу меняется. Я потрясен. В один момент я словно перенесся через тысячекилометровое пространство и оказался дома, в красном уголке одной из московских фабрик. У меня нет времени осмотреться. Комната уже заполнена до отказа. Мы с Эрихом немного опоздали. Все же, начав с очень осторожного замечания, что это будет только информация о состоянии дел в народном хозяйстве СССР, я скольжу глазами по стенам. Вот напротив меня висит красное полотнище, и яркие буквы бьют мне в глаза: «Война империалистической войне!» Ниже вся стена занята международной корреспонденцией. Что-то подобное организовывал и я сам, когда служил в красноармейском отряде. Отряд переписывался на эсперанто с иностранными рабочими. Но я вешал на стены плакаты на немецком языке с требованием освободить Макса Хольца и помочь детям политзаключенных. Здесь же плакаты, напротив, на чистом русском языке говорят о перевыборах в Советы, о займе на индустриализацию страны и тому подобном. Центр уголка наиболее интернационален. Здесь есть письма и фотографии советских красноармейцев. Я присматриваюсь получше, стремясь понять, не на эсперанто ли написан большими буквами документ, вывешенный в самом центре? Я говорю о безграничных пустынных полях, таких непохожих на усердно обрабатываемые участки немецких пашен, о бедных деревнях, о крытых соломой, продымленных жалких избах, о миллионах мелких хозяев, составляющих подавляющее большинство населения социалистической страны. Я рассказываю о скрывающихся в темных углах классовых врагах советского пролетариата, об убийствах деревенских корреспондентов, о саботаже и намеренном противодействии со стороны интеллигенции, о спекуляции частных торговцев, о вспышках антисемитизма, о бескультурье, о нехватке самых элементарных технических средств. Аудитория слушает, раскрыв рты. Отто сидит на передней скамье с широко раскрытыми от удивления глазами. С каждой минутой он все больше приходит в замешательство. Эрих хмурится. Его большая фигура в президиуме выражает явное недовольство. Рудольф Риц, секретарь одной из пригородных ячеек, крайний на второй скамье, сполз к самому краю и, подперев голову ладонью, не отводит от меня глаз. Алиса в пятом ряду остановила на мне понимающий умный взгляд. Начав рассказывать о бюрократизме, я с минуту помолчал, не зная, надо ли рассказывать всё? Эрих пододвинул мне кружку с пивом. Я немного отпил. Буря негодования охватила внезапно маленький зал. Эрих напрасно звонит. Отто кричит, что он не верит ни одному моему слову, что все сказанное мной наглая ложь и наветы на Страну Советов, никогда он не читал что-либо подобное в газетах, и я не кто иной, как меньшевик, или, по меньшей мере, троцкист. Юная девушка-комсомолка требует незамедлительно сообщить в ЦК Советской Коммунистической Партии о моем антисоветском выступлении. Кто-то сомневается в моих документах и предлагает проверить сейчас же мой советский паспорт. Я сижу молча, спокойно наблюдая за эмоциями слушателей. Я доволен произведенным эффектом. Рудольф Риц тоже доволен. — Геноссе прав, — говорит он. — Я рад, что вижу советского гражданина, не боящегося правды. Но он должен еще сделать выводы. Я сомневаюсь, что все трудности, которые встречает советский пролетариат, являются следствием только лишь объективных причин. Снова вспыхивает буря, но ее тут же гасит энергичный колокольчик в руке Эриха. К столу подходит Алиса. Она несколько взволнована, и в ее голосе слышится еле сдерживаемое возмущение. — Товарищи! Риц не прав! Это означает ничего не понимать там, где для коммуниста все должно быть ясным, или ко всему подходить тенденциозно. Товарищ не закончил свой доклад. Он рассказал обо всем, что подрывает организм советской страны. Он перечислил язвы, пожирающие ее тело. Означает ли это, что организм безнадежно болен? Означает ли это, что в СССР есть только плохие врачи, не способные излечить раны, оставшиеся после войны? Означает ли это, что организм разрушается и не победит в этой борьбе? Разве мы не получаем письма из СССР? Советские товарищи именно потому и сильны, что они не боятся открывать свои темные стороны. Не боятся, потому что надо видеть своих врагов, чтобы успешно против них сражаться. Разве не в этом зале мы читали на последнем собрании письмо красноармейцев о контрреволюционерах в Шахтах? Пусть товарищ продолжит, и не надо ему мешать! Я смотрел на Алису с удивлением. Где она приобрела такую способность ясно мыслить, чтобы сразу ухватить суть проблемы? Ведь ее товарищи заблудились меж трех сосен! Действительно, она интересная девушка! — Спрашивайте, товарищи, а я буду отвечать, — сказал я. — В Стране Советов это называется вечер вопросов и ответов. Это будет очень интересно! Мои слушатели окончательно успокоились. — А что делает партия, чтобы ликвидировать такую разрозненную экономическую структуру в деревне? — Что они предпринимают, чтобы создать собственную промышленность? — Как борются Советы с безработицей? — Учится ли рабочая молодежь в вузах? — Строится ли жилье для рабочих взамен негодного? — Верят ли советские рабочие в Бога? — Действительно ли вы переходите на семичасовой рабочий день? Я отвечаю. Подробные справки с колонками цифр, которые я извлекаю из моей записной книжки, вызывают всеобщее одобрение. Выражение лиц меняется. Морщины на лбу Эриха исчезают. Отто улыбается. — Товарищ ничего не сказал о Красной Армии. Это очень интересно! — Мы просим! Я говорю о Красной Армии, о ее жизни, о взаимоотношениях между красноармейцами и руководством, о товарищеских взаимоотношениях Красной Армии с фабриками и заводами. — Товарищ! — кричит Отто, — а может ли рабочий стать командующим Красной Армией? — Иностранцев принимают в Красную Армию? — Сколько с меня возьмут за учебу в советской военной школе? — А казаки, которые вчера пели в русском хоре в концертном зале на Фридрихштрассе, они тоже красноармейцы?.. — Если нет, то почему советское правительство позволяет им петь в русской военной форме? Следует взрыв хохота. Спросивший, официант с кружкой пива в руке, сильно смущен. Покраснел. Под музыку никелированных туб, труб и флейт зал поет «Молодую гвардию». Я беру Алису под руку. Так мы проходим мимо флегматичного полицейского и стайки зевак, стоящих на тротуаре и поднявших головы к освещенным окнам партийного комитета. Эрих догоняет нас на углу, но в десяти шагах от нас внезапно исчезает в какой-то маленькой улочке. У станции метро «Зоологический сад» мы собираемся расходиться. Грандиозное гранитное сооружение «Уфа-Палацо» еще полыхает на площади оранжевыми и голубыми огнями. На крыше пробегает светящееся название фильма. Два других киногиганта, не желая уступать своему конкуренту, также тонут в сверкающих золотых и голубых огнях. Алиса вздыхает, не выпуская моей руки. — Жаль, что ты уже уходишь! Я удивленно поднимаю на нее глаза. — Давай немного прогуляемся! Мы медленно идем вдоль Курфюрстендамм. Здесь уличное движение немного спокойней. Гладкая сверкающая мостовая кажется морем, в котором качаются сотни пароходов. Среди волн белого света загораются и тут же гаснут красные сигнальные огни автомобилей. На фасадах, чертя каллиграфические надписи, словно бесконечная лента, бежит в стеклянных трубочках сверкающее электричество. За прозрачными стенами магазинов цветут тюльпаны, розы и астры, образуя удивительные рисунки, освещенные разноцветными лампами. В наружных цветниках перед сверкающими ресторанами за столиками пьют вино и шумно переговариваются. Входы в кинотеатры и варьете обрамлены тройной светящейся каймой. Четыре ряда зеленых деревьев вдоль улицы ярко освещены. Здесь так мало тени, что ее намного легче было бы найти в солнечный день. Алиса бросает на меня вопросительный взгляд. — Скажи, я правильно тебя поняла, ты говорил о различных негативных сторонах, чтобы сделать обсуждение более оживленным? — Да, Алиса, я устроил провокацию. Это плохо? — Да нет, совсем нет! Я сразу поняла, каким будет финал! А ты обратил внимание на выступление Рудольфа? Оно было странным, не правда ли? — Рудольфа? А, этого!.. Да, надо его обдумать! Но Алиса... Я остановился, не решаясь продолжить. Алиса смотрела ожидающе. — Что ты хочешь сказать! — Скажи, как объяснить, что ты сразу поняла меня? — А, вот оно что! — рассмеялась девушка. — Так вот, в прошлом году я обучалась в школе молодежного коммунистического актива. Там нам говорили, что надо владеть не только материалом, но также и аудиторией. Для этого существуют различные методы. Теперь я всегда наблюдаю, какие методы использует оратор. — Ты намереваешься стать партийным функционером? — Почему бы и нет? Ты не одобряешь? — Речь не об этом... Ты могла бы мне ответить?.. Кто ты, Алиса? Алиса опускает глаза. Несколько минут мы идем молча. Я не прерываю паузу. Мы похожи в этот момент, вероятно, на очень сентиментальную пару, потерявшую от любви способность говорить, или на супругов, сильно надоевших друг другу. Проходящие мимо щеголи нагло заглядывают в ее глаза, а проститутки нахально улыбаются. — Я рабочая с фабрики «Осрам». Разве ты этого не знаешь? Я не успеваю ответить. Мое внимание отвлекает приближающийся к нам юный офицер в серой униформе. Он идет с элегантной молодой женщиной. Офицер отдает нам честь и, бросив презрительный взгляд в мою сторону, вежливо произносит: — Добрый вечер, фройлен Алиса! Я вздрагиваю и долго молчу, прежде чем отваживаюсь заговорить вновь. Мой голос становится строгим, и осторожная холодность проскальзывает в моих словах! — Ты не рабочая, Алиса! Почти испуганно Алиса делает шаг в сторону. Долю секунды я борюсь с овладевшими мной сомнениями. Я смотрю на побледневшее лицо девушки и на ее погрустневшие глаза. Нет, в них больше нарастающей грусти, чем страха! Словно тоска появилась в ее душе, и мое неожиданное касание к ее ране обострило успокоившееся до этого страдание. Да, такое чувство мне знакомо! — Ты не желаешь мне все рассказать? — я мягко касаюсь ее рукава. Она медленно качает головой. — Я должен знать, Алиса, хотя бы одну вещь... Ты понимаешь меня? Она поднимает покрасневшее лицо. — Что ты желаешь знать? — Я желаю знать, ты коммунистка?.. То есть ты сознательно пришла к ним?.. — я стушевался, не найдя слов. — То есть, можно ли доверять тебе, Алиса? Действительно ли ты с нами? Сейчас она смотрит прямо. — Да! Как здорово вздохнуть с облегчением! В моей груди растаял тяжелый ком. Но Алиса не сразу приходит в себя. Потихоньку мы дошли до Тиргартенштрассе. Эта роскошная улица, несмотря на поздний час, переполнена непрерывным потоком автомобилей и сверкает так же, как и Курфюрстендамм. Я останавливаюсь возле рекламного столба и делаю вид, что читаю афишу. — Почему, Алиса, мы не ходим вместе в театры?.. Скажи хотя бы одно слово! Что представляет собой, например, Адмиралс-Паласт? — Это самый роскошный театр-ревю в Берлине. — Что там показывают? — Роскошные туалеты и полное их отсутствие. — Вот как! Ты уже бывала в этом театре? — Нет! Это буржуазное развлечение! — А, так ты бываешь только в театре Пискатора?7 — У тебя такое огромное желание посмотреть ревю? — Почему бы нет? Ведь мы же ходим в Москве в Мюзик-холл! Алиса не выдерживает и улыбается. — Если ты так настаиваешь, давай сходим. — Я не настаиваю. Просто я хотел бы увидеть здесь что-нибудь необычное, чего нельзя найти у нас. — Этого ты не найдешь, это точно! Алиса немного развеселилась. Мы выходим на Тиргартен и следуем по боковой неосвещенной аллее. По сравнению с улицей здесь тишина, словно в герметично закрытой коробке. Асфальтированные дорожки для велосипедов и автомобилей остались в стороне. Мы идем по мягкому песку, бесшумно ступая и переговариваясь почти шепотом. Я сильно прижал к себе руку девушки. — Видишь, Алиса, какие очаровательные звезды? Звезды действительно прекрасны, словно синий контур на бледном берлинском небе, проникающие сквозь усыпанные листвой шапки деревьев. — Звезды везде похожи, на моей далекой родине, в Стране Советов, и здесь, в капиталистической Германии! — Марксизм мешает тебе стать поэтом, — полушутя замечает Алиса, побеждая остатки своего плохого настроения. — Впрочем, я также люблю все красивое, звезды ли, городские огни, картины, статуи или живое тело. Этот грех тебе легче всего простят. Ты беспартийный! — Вот глупость! — возражаю я и медленно добавляю: — Я помню ночь, прекрасную ночь, которую я провел в лагере. Серебряные звезды, похожие на эти, смотрели на меня сквозь верхушки деревьев. Воздух распространял запах сосен, белые палатки были освещены лунным светом, и наш оркестр играл вальс из Фауста. Ты знаешь этот вальс? Я сидел на пне далеко от людей, сидел и мечтал. И мне казалось, что я переношусь в страну Гёте, в страну доктора Фауста и Маргариты. Я видел старинный город Дрезден, остроконечные черепичные крыши, ярмарочную толпу, народный праздник. И вот... Я посмотрел на девушку и громко рассмеялся. — Нет, сегодня я глупый! Не слушай, Алиса, этот абсурд!